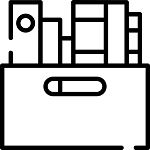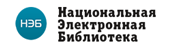В следующем 2017 году мы будем отмечать славный юбилей – 85-летие Комсомольска-на-Амуре. Многие жители Комсомольска проявляют интерес к истории города, к людям, внесшим весомый вклад в его развитие. В связи с этим представляет интерес статья Антона Ермакова, опубликованная в журнале «Комсомольск» и присланная к нам в библиотеку.
КОРАБЕЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР КОСТЕНКО
Сегодняшний наш рассказ – об уникальном человеке – российском и советском инженере-кораблестроителе, участнике Цусимского сражения, демократе-революционере, одном из организаторов судостроения в СССР, лауреате Сталинской премии – Владимире Полиевктовиче Костенко. Этот человек, определив судьбу всего мирового кораблестроения, определил судьбу и Комсомольска-на-Амуре. Сегодня, когда многие высказываются о городе с долей пренебрежения – самое время обратиться к нашей истории, о которой очень часто мы имеем весьма смутное представление.
Итак, Владимир Полиевктович Костенко, будущий корабельный инженер родился 20 сентября 1881 года в Полтавской губернии. Классическую гимназию окончил с золотой медалью и сразу же поступил на первый курс кораблестроительного отделения Морского инженерного училища императора Николая I, располагавшегося в г. Кронштадте, которое в 1904 году закончил также с золотой медалью и занесением его фамилии на мраморную доску почета. Уже в дипломном проекте он разработал ряд технических новшеств и применял их впервые в мировой практике, будучи помощником строителя броненосца «Орел», на который вскоре был назначен корабельным инженером и вместе с эскадрой боевых кораблей двинулся на Дальний Восток для участия в военных действиях против японского флота. Участие в этом беспримерном морском походе, закончившимся Цусимским сражением вооружило Владимира в самом начале его технической деятельности практическим опытом в вопросах военного кораблестроения и дало толчок для дальнейших исследовательских работ.
Цусимское сражение, как известно, было проиграно, но броненосец «Орел», получив 140 прямых попаданий крупными снарядами смог удержаться на ровном киле до конца боя. Костенко впервые в мире применив в аварийных условиях таблицы непотопляемости своего учителя морского академика А.Н. Крылова, смог предотвратить опрокидывание «Орла».
Позже, в 1909 году, находясь в Англии в качестве ведущего российского инженера и руководителя группы слушателей кораблестроительного отделения Военно-морской академии, знакомится с чертежами знаменитого «Титаника» и обращает внимание его конструкторов на грубые ошибки в системе непотопляемости. «Поймите, одна небольшая пробоина и «Титаника» не станет» - говорил он. Но англичане, к сожалению, не обратили на это внимания.
В 1910 году за революционную деятельность против царя, Костенко был арестован, заключен в Петропавловскую крепость и вскоре осужден на 6 лет каторги, но по ходатайству морского министра, адмирала И. К. Григоровича был помилован Николаем II, со словами – «Нам талантливые люди нужны». После этого Костенко работает на различных судостроительных заводах страны, проектирует и сдает в эксплуатацию до 150 самых разнообразных военных и коммерческих судов, за пред- и послереволюционные годы меняет целый ряд должностей и званий, а в 1924 году становится членом правления по технической части Ленинградского «Судотреста».
В 1928 году его арестовывает уже советское правительство по сфабрикованному делу «Судотреста», обвиняя во вредительстве, заключавшемся в перерасходе сметной стоимости транспортных судов, и приговаривает ни больше, ни меньше – к расстрелу. Обратимся к воспоминаниям дочери Натальи Владимировны: «Впоследствии папа рассказывал: «Обычно приговор приводят в действие на рассвете. На девятый день после объявления приговора в 5 часов утра загремел замок моей одиночной камеры и мне приказали: «Собирайтесь». Вели меня по длинному тюремному коридору. Я знал, что если в конце поведут налево – расстрел, направо – возможны какие-либо изменения судьбы. У несправедливо осужденного теплится надежда на чудо – высшую Божественную помощь». Папу повели направо и зачитали новый приговор: «Ссылка на 10 лет в Соловецкий лагерь особого назначения» (СЛОН)»
Но высшие инстанции, учитывая огромную эрудицию Костенко, вскоре перевели его из Соловков в Особое конструкторское бюро ОГПУ (объединенное государственное политическое управление) в Харькове, а через год в такое же ОКБ в Ленинграде. На работу в «Судопроверфь» его возили под конвоем. В 1931 году постановлением коллегии ОГПУ Костенко освобожден и назначен главным инженером «Проектверфи». Так он возглавил проектирование крупнейших судостроительных заводов в будущем Комсомольске-на-Амуре и Северодвинске.
Итак, строительство Комсомольска начиналось со строительства завода № 199, важнейшего оборонного объекта, будущего судостроительного завода имени Ленинского Комсомола, а ныне «Амурского Судостроительного завода». Такой завод должен был быть построен в целях укрепления оборонной способности страны, укрепления промышленно-экономической базы Дальневосточного края. Оставалось только решить где именно начать строительство. Первым решением было реконструировать «Дальзавод» во Владивостоке, а после того как стало понятно, что это нецелесообразно, принимается второе решение – район Хабаровска, у села Нижне-Воронежского, на правом берегу Амура. Третье правительственное решение – не ближе 400 километров от Хабаровска, на левом берегу. 17 февраля 1932 года «Проектверфь» получила предписание от наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе срочно направить группу работников на Дальний Восток для ознакомления на месте с возможными площадками для строительства.
30 марта самолет сел на лед против села Пермского. И вот тогда, при разработке предварительного генерального плана, в период выбора площадки Костенко впервые пришла в голову идея отказаться от классических наклонных стапельных устройств и пойти по пути сооружения сухих утепленных доков, находящихся выше горизонта акватории реки, перекрытых эллингами, в которых строить почти полностью готовые суда на горизонтальных стапелях. Это дало бы возможность ограничиться меньшей площадью территории и устранить зависимость от колебаний уровня воды в Амуре. Идея эта была беспрецедентна для всей мировой практики кораблестроения.
Было понятно, что спускать суда для достройки непосредственно в русло грозной реки нельзя и необходимо найти закрытые районы или плесы. 9 апреля 1932 года комиссия во главе с первым заместителем наркома по военным и морским делам СССР Яном Гамарником подписала протокол, согласно которому площадка села Пермского, у Малого и Большого Силинских озер наиболее отвечает назначению – строительству судостроительного завода. Площадку выбрал лично В.П. Костенко, чем окончательно решил вопрос о месте строительства будущего города – Комсомольска-на-Амуре. Одно из Силинских озер он намеревался превратить во внутренний закрытый бассейн.
Проектирование завода шло в необычных условиях одновременно с проведением изыскательных работ, подготовкой к строительству и самим строительством. Конечно, при проектировании возникали трудности, были необходимы уточнения. Да и как может быть иначе, когда делаешь что-то первым в мире. Казалось, все было на своих местах, но вскоре новый тип судостроительного завода, с большим объемом работ по гидротехническим сооружениям, вызвал большие возражения со стороны руководителей строительства.
16 октября 1932 года в Кремле состоялось заседание Совета труда и обороны, под председательством И.В. Сталина по вопросу строительства и проектирования завода. Против Костенко были все – секретарь Дальневосточного крайкома ВКП(б) С.А. Бергавинов, начальник строительства И.А. Каттель, Я.Б. Гамарник обвинил его в стремлении сгустить краски и, преувеличивая климатические трудности Дальневосточного края добиться утверждения своего проекта судостроительного завода нового типа. Необходимо отметить, что заседание происходило всего через год после освобождения Костенко. Ему было нелегко выступать после таких авторитетов, но кроме него защищать идею эллингов было некому. И Владимир Полиевктович кратко, обстоятельно, аргументировано доказал техническое превосходство своего проекта. Признавая строительство нелегкой задачей, он, тем не менее, настаивал, что его проект значительно легче для осуществления, чем обычные наклонные стапеля и что такое и только такое решение приемлемо в условиях Амура с его колоссальными паводками и колебаниями уровня реки до 10 метров... После этого Сталин сказал, что в специальных вопросах надо полагаться на специалистов и одобрил проект. Также было решено сосредоточиться исключительно на производстве военной продукции.
Итак, судьба проекта завода, в основе которого лежала революционная идея, была окончательно определена. Костенко часто бывает на строительной площадке в Комсомольске, он проверяет основные установки проектирования, знакомится со строительством завода, принимает важные решения, увязывая их с ходом строительства. Его называли «душой всего дела».
К своим пятидесяти годам Владимир Полиевктович имел за плечами опыт работы, которым, наверное, не мог бы похвастаться ни один кораблестроитель в мире, и огромный опыт общения с людьми: он умел находить общий язык с рабочим и адмиралом, с рядовым конструктором и руководителем промышленности. Его проект завода на Амуре определил практику проектирования и строительства судостроительных предприятий Японии, Западной Европы и США на 30 лет вперед.
После работы на Дальнем Востоке Костенко приступает к проектированию завода в Северодвинске, под Архангельском. Здесь 25 февраля 1941 года его опять арестовывают, опять обвиняя во вредительстве, заключавшемся на этот раз в преднамеренном выборе площадки для строительства на болотистом месте, что якобы повлекло за собой большие перерасходы при выполнении гидротехнических работ. Надо сказать, что все это происходило буквально накануне войны и все здравомыслящие люди, конечно, понимали ее неизбежность. Впоследствии Владимир Поливектович рассказывал подробности допросов:
Следователь: Вы преднамеренно выбрали площадку на болоте – это вредительство.
Костенко: Петр Великий был первым вредителем, ведь он построил город на болоте, а я только завод. Будущая война докажет, что стратегически мною выбрано место абсолютно правильно.
Следователь: О какой войне вы говорите?
Костенко: Война с Германией неизбежна.
Следователь: Но вы знаете, что Молотов заключил договор с Риббентропом о ненападении?
Костенко: Война с фашизмом неизбежна…
«Я не соглашался с обвинениями во вредительстве и ко мне применили меры физического воздействия… Например меня посадили в клетку, такую, что нельзя было повернуть ни тело, ни голову. Поставили в ней на холод в одной рубашке и еще капали на темя холодную воду. Опасаясь переохлаждения сосудов головного мозга, я занялся дифференциальным исчислением, пока не потерял сознание…» В одиночной камере Ленинградской тюрьмы он продолжал находиться и когда Германия напала на СССР. Затем его эвакуировали в Златоустовскую тюрьму, где он просидел до 10 июня 1942 года, когда в связи с прекращением дела его освободили и срочно командировали опять на Дальний Восток для решения вопросов капитального строительства на дальневосточных заводах. Костенко понимал причины своего освобождения – правительству понадобились точные сведения о техническом состоянии заводов. Кстати, война действительно доказала правоту гениального инженера при выборе площадки в Северодвинске.
1 октября 1953 г. в связи с преклонным возрастом Владимир Полиевктович перешел на работу по сокращенному графику на должность главного технолога по судостроению в государственном проектном институте, которую исполнял до последних
дней жизни. 14 января 1956 г. В.П.Костенко скончался в Ленинграде и был похоронен на Серафимовском кладбище.
Вот такая уникальная своим бесценным опытом жизнь потрясающего человека революционного ума и огромной силы воли. Владимир Полиевктович Костенко был не только выдающимся кораблестроителем, но и талантливым литератором, крупным общественным деятелем, прекрасно рисовал, хорошо играл на рояле, кроме русского и украинского владел английским, французским и немецкими языками.
За участие в строительстве Комсомольского судостроительного завода Костенко был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1950 г. его имя Сталин лично внес в список лауреатов Государственной (Сталинской) премии за создание советских судостроительных заводов первого поколения. И, конечно же, он ее получил. Много это или мало? Достойно ли гения этого человека? Так ли важны были для него эти награды после всего того, что ему пришлось пережить? Действительно ли была бы для него важна наша память о нем, о его работе и славных делах? Действительно ли мы знаем, помним и чтим свою историю, ее по-настоящему великих людей?
Еще в 1983 году, в газете «Дальневосточный Комсомольск» инженер В. Истомин, член совета городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, закончил свою статью о корабельном инженере Костенко следующими словами: «Он вполне заслужил того, чтобы открыть мемориальную доску на заводе, а одной из улиц города присвоить имя кораблестроителя». Думаю, он заслужил большее – он заслужил нашу память и благодарность. Между прочим, улица имени человека, выступавшего против его идей, и обвинявшего его в корысти, в городе есть – это улица имени Гамарника.
Редакция говорит большое спасибо специалисту экспозиционного и выставочного отдела истории города Краеведческого музея Елене Владимировне Лапчук и специалисту музея трудовой славы «АСЗ» Валентине Владимировне Косыревой, за помощь при подготовке этого материала.
Подготовил Ермаков Антон